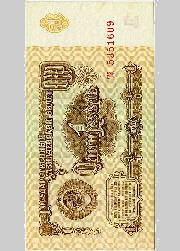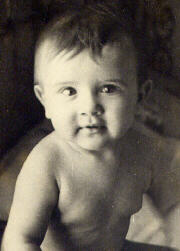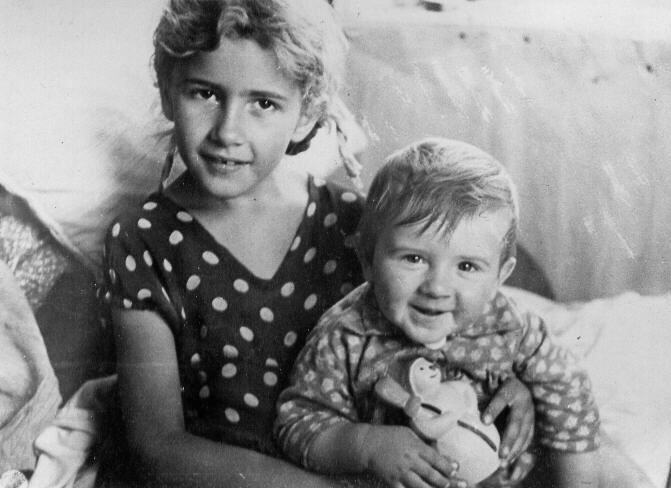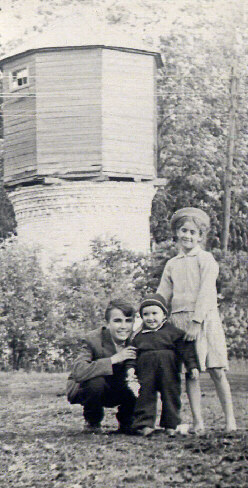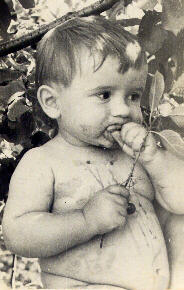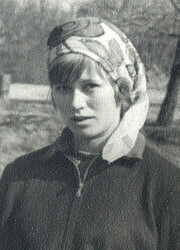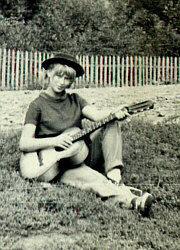В 1960 году, за год до описываемых далее событий, директором Дубровской средней школы назначили Сафронова Павла Александровича, работавшего ранее ответственным работником ЦК КП Казахстана. (Прежнего директора школы райком партии перебросил председателем колхоза в одно из отстающих хозяйств, чтобы он поднял его до требуемого уровня).
Новый директор оказался прогрессивным человеком, дал большую инициативу учителям, сведя объем их формальных работ с бумагами до минимума (лишь бы районо не смогло придраться к их отсутствию), и усилил роль их личной работы с учениками, особенно, отстающими. Он же ввел в средних и старших классах школы систему помощи более сильных учеников более слабым, с поощрением за работу в таких парах (и одного, и другого).
Одновременно Павел Александрович преподавал историю и обществоведение (когда такой предмет появился в учебной программе средних школ).
Сафронов делал ставку на молодых учителей, способных внедрять его нововведения, поэтому выдвигал на передовые роли в школе именно таких. В частности, он назначил Лидию Ивановну классным руководителем, а Ивана Андреевича сделал, фактически, своим помощником (сначала - неофициальным).
В начале 1961 года он дал ему рекомендацию для вступления в партию (без чего в те времена о какой-либо руководящей должности и говорить не приходилось). Спустя год, отбыв кандидатский стаж, отец стал полноправным обладателем красной книжки (это неофициальное называние партбилета), а с августа 1962 года - завучем школы.
 |
Жена директора, Мария Александровна, работала в школе библиотекарем.
Их дети были уже взрослыми и жили где-то далеко (на Урале или в Сибири).
Семья директора дружила с нашей семьей и вне формальных школьных отношений. Именно Павел Александрович, увидев, что я, даже находясь у них в гостях, почти не выпускаю из рук книгу Никулина "25 уроков фотографии", тут же подарил мне свой фотоаппарат "Любитель-2", без какого-либо повода, просто так. От счастья я едва не обомлел, не зная, смею ли я принять такой дорогой (в буквальном и переносном значении слова) подарок. Но после того как папа незаметно кивнул мне головой, принял его, поблагодарил и был на седьмом небе от счастья.
Молодой учитель физики Леонид Владимирович Кучинский научил меня делать фотоотпечатки, поэтому 24 июня 1962 года, в мой день рождения, родители подарили мне еще один, теперь уже чуть ли не самый совершенный на то время фотоаппарат "ФЭД-2", а к очередному Новому году - еще и увеличитель ("Нева"? или "Ленинград"? Наверное, оба, только с разрывом во времени).
И я стал очень "продвинутым" в понимании того времени фотолюбителем. А как ученик - фанатом физики.
Кучинский, бывший детдомовец, успешно совмещал учительскую деятельность с работой киномеханика в клубе совхоза. Обучил он этой профессии и меня. Экзамены я сдавал в Полтаве, получил соответствующее удостоверение, сохранившееся и до настоящего времени.
У Леонида Владимировича своих детей не было, поэтому он с удовольствием проводил время со мной: помог оборудовать мою фотолабораторию, катал меня на мотоцикле, по-настоящему вовлек в радиолюбительскую деятельность.
Его часто можно было увидеть и в мастерских по ремонту тракторов и другой сельскохозяйственной техники совхоза, где он не только давал полезные советы, но и с удовольствием, часами, работал вместе с механизаторами, совершенно бесплатно, в порядке хобби.
К сожалению, там же, на тракторной бригаде, выпукло проявилось и его пристрастие к алкоголю. А когда он напивался, то был способен на самые безрассудные и безумные поступки.
- Умная голова, да дураку досталась! - так говорили о нем все чаще и чаще.
Однажды, будучи пьяным, он ехал на своем "ИЖ-Юпитере" по селу и опрокинулся на совершено ровном участке дороги. Скорость была не слишком большой, поэтому он просто свалился на обочину дороги. Несмотря на это, он не слез с седла, а что есть силы продолжать поддавать газу своему железному другу, ревущему, как раненый дикий зверь. А из бензобака на Леонида что есть силы хлестал бензин.
От трагедии в тот раз его спас выскочивший на шум из двора мужчина, выдернувший из мотоцикла ключ зажигания и заглушивший таким образом его мотор.
Спустя годы Кучинский покончил жизнь самоубийством, повесившись на чердаке.